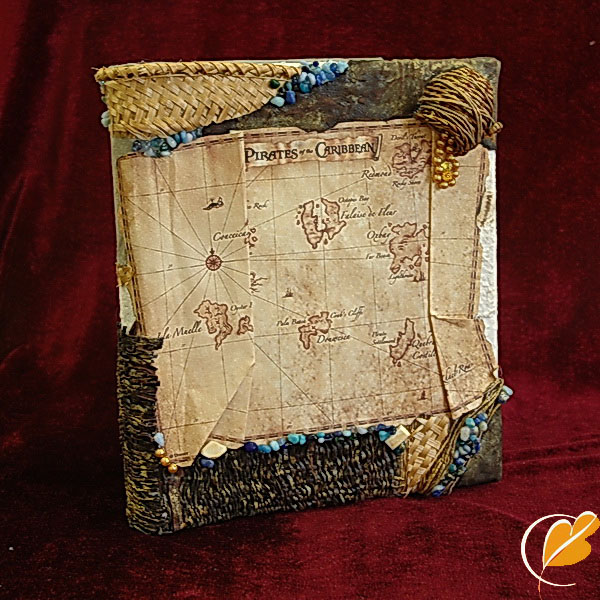страшная компиляция, конечно, но в наличии. кусочки из курсовой по арабской сказке
1. Особенности арабской сказки.У широкого круга читателей с арабскими сказками первым ассоциируется только один сборник сказок - «Тысяча и одна ночь». Это наиболее выдающийся и самый популярный сборник сказок. На него же опираются и исследователи арабской литературы. Если речь идет об иранских или иракских сказках, цикле сказок о Синдбаде, который также включен в сборник «Тысячи и одной ночи», в работе обязательно встретится ссылка на «Тысячу и одну ночь», хотя тут же может быть выражено негативное мнение автора по отношению к этому сборнику. Так В.В. Лебедев в своей статье «Словесное наследие Шахразады» говорит, что данный сборник не может дать представления о подлинных арабских сказках, так как «Оригинал «1001 ночи» - не запись текстов, рассказывавшихся изустно, а литературный сборник, имевший многовековую письменную традицию, причем в основе этого сборника лежала переведенная на арабский язык примерно в IX в персидская литературная антология «Хезар эфсане («Тысяча рассказов»)». [6, с.5] Источниками же этой антологии стал древний фольклор Индии и Ирана. Таким образом, на арабскую почву многие сказки вошедшие в сборник «Тысячи и одной ночи» пришли уже в литературной обработке, что, по мнению Лебедева, делает эти сказки арабскими «весьма условно». Однако стоит отметить, что некоторые из сказок «Тысячи и одной ночи» формировались в средние века уже на арабской почве (в Ираке, Сирии и других арабских странах). Вместе с тем, Лебедев говорит именно о народных арабских сказках, которые пересказываются вовсе не литературным языком, языком Корана и классической арабской поэзии, как сказки «Тысячи и одной ночи», а рассказываются на живом разговорном диалекте.
Переходя непосредственно к особенностям арабской сказки стоит отметить экзотичность персонажей сказок, так скажем, если речь идет о животной сказке, то вместо традиционных для европейских сказок волка или медведя будут представлены шакал или пантера. Кроме этого можно выделить существенную черту арабских сказок — значительное видоизменение распространенных сюжетов. Лебедев называет их «бродячими» сюжетами. В качестве примера такого неожиданного видоизменения сказки можно привести сказку Саудовской Аравии «Лиса и гиена», сюжет которой напоминает сказку «Волк и семеро козлят». Здесь необычен состав животных, так вместо волка выступает лиса, а место козлят занимают детеныши хищницы-гиены. Вторая часть этой сказки также отличается от европейского варианта. Лисе так и не удается поймать гиенышей и она, испугавшись мести гиены, покидает место обитания и увозит свою бабушку. В дороге бабушка умирает по вине крестьянина. Лисе предлагают выкуп за бабушку, поначалу она отказывается, но потом всё-таки соглашается и забирает выкуп. У Лисы появляются «дружки», претендующие на часть этих денег, но по совету «одного умного знакомого» она вкладывает эти деньги в торговые дела и «живет припеваючи».
В волшебных сказках развитие сюжета сконцентрировано вокруг главного героя, который всегда является чудесным героем с присущим чудесным рождением, ростом, обладанием сверхъестественными силами или чудесными помощниками, которыми выступают обычно добрые духи, волшебники, мусульманские святые и мертвецы. Отдельную группу составляют волшебные сказки, где героем является женщина.
Бытовые сказки и анекдоты можно назвать самостоятельной особенностью арабских сказок. Герои этих сказок не сталкиваются с сверхъестественными чудовищами и колдунами, они действуют в обычных ситуациях, но действия их могут быть необычны. В.В. Лебедев приводит пример такого необычного поведения: «купец, стремясь показать сыну цену подлинной дружбы, объявляет мнимым друзьям сына, что тот убил человека (а за убитого выдает завернутого в саван жареного барана); бедняк, выгодно продав кошку, затем совершает ряд неудачных обменов, но в итоге все же получает целый вьюк золото и т.п.» [6, с.10]
Еще одна особенность арабских сказок — создание и распространение их в различных социальных средах. Так по происхождению и среде распространения сказки можно разделить на три группы: бедуинские, крестьянские и городские.
Все эти типы (животная, волшебная и бытовая) и группы (бедуинская, крестьянская и городская) сказок более подробно рассмотрены ниже. Здесь же стоит сказать о том, что для сборников сказок типа «Тысяча и одна ночь» характерна композиционно рамочная конструкция, новые же арабские сказки ее не имеют, так как такая конструкция присуща произведениям большего объема. Если говорить о языке сказок, то можно отметить, что в сказках обычная проза чередуется с рифмованной, встречаются и стихотворения. Для арабского фольклора и арабской литературы в принципе характерно применение рифмованной прозы, сочетание прозы и стихов в пределах одного повествования. Лебедев говорит о том, что функции стихов и рифмованной прозы в сказках нуждаются в дополнительном изучении и в порядке предварительных замечаний отмечает, что «рассказчик обычно обращается к стихам для создания у слушателей определенного эмоционального состояния. В стихотворную форму облекается какой-то важный элемент повествования, определяющий дальнейшее поведение героя» [6, с.18.]
Теперь, когда представлены ключевые особенности арабских сказок можно перейти к более подробному рассмотрению типов и групп арабских сказок.
1.1. Типы арабской сказки.
Как уже говорилось выше, исследователи обычно выделяют три типа сказок — сказки о животных, волшебную сказку и бытовые сказки и анекдоты.
Сказки о животных возникли в глубокой древности, они объясняют происхождение тех или иных повадок у зверей, откуда пошли различные бытовые традиции. Животные сказки также являются и иносказательными. Помимо поясняющей роли, они исполняют еще сатирическую и морализующую. Так, сказки о животных высмеивают глупость, жадность, жестокость и другие пороки.
Возвращаясь к вышеприведенному примеру животной сказки «Лиса и гиена», стоит сказать, что на арабской почве был зафиксирован и другой, более близкий к «Волку и семерым козлятам» вариант — в палестинской сказке «Коза-козочка», нападающей стороной является гиена, в итоге она погибает в схватке с козой.
Сюжеты животных сказок усложняются, сочетаются с мотивами и элементами сказок других жанров — это характерно для сказок нового времени.
Действие волшебной сказки, как было сказано выше, обычно сконцентрировано вокруг одной фигуры главного героя. Однако в сказке может быть и два героя, например, отец и сын или брат и сестра. Крайне редко встречаются волшебные сказки с тремя героями. Герой волшебной сказки отличается необыкновенным умом, удивительной красотой и богатырской силой. Рождение героя тоже может быть связано с чудом, например, в палестинской сказке «Дети черепа» главные герои рождаются от того, что их мать попробовала порошок из ступки, где ее отец истолок череп. Другой чудесной характеристикой является то, что герой растет не по дням, а по часам. Салим из сказки «Дети черепа» «к одиннадцати годам был уже ростом и телосложением как взрослый мужчина». Герои сказок сражаются с сверхъестественными чудовищами и всегда побеждают. Нередко героям противостоят и люди, в том числе близкие родственники.
Сюжеты и мотивы волшебных сказок нельзя назвать разнообразными. Обычно волшебная сказка сводится к повествованию о путешествии героя в поисках возлюбленной, живущей «за тридевять земель» или похищенной сверхъестественным существом.
Еще один тип сказок, бытовые сказки, лишен фантастического элемента. «Герой бытовой сказки добивается успеха благодаря собственной силе, смелости, ловкости, хитрости».[6, с.10] У героя бытовой сказки также, как и у героя сказки волшебной есть помощники, но это не представители сверхъестественных сил, а обычные люди. Особой популярностью на Востоке пользуются бытовые сказки, рассказывающие о проделках хитрецов. Популярнейшим персонажем подобных сказок и анекдотов является Джуха, выступающий в одних рассказах в качестве простака, в других — в качестве остроумного хитреца, в третьих – сочетающий обе эти черты. Еще в средние века существовала поговорка «Глупее Джухи», зафиксированная в своде пословиц и поговорок, составленном в XII веке. По популярности с Джухой может соперничать только Мулла Насреддин, о котором сочиняют сказки даже в настоящее время, в них можно встретить Насреддина в современных бытовых условиях. Также популярны сказки о женской и детской сметливости. Есть сказки, в которых резкому осмеянию подвергаются духовные лица и судьи. В этих сказках образы священнослужителей и блюстителей закона выведены резко сатирически. Сказители смеются над глупым судьей-взяточником из иракской сказки «Дочь купца», пытающимся обольстить юную девушку, над служителями культа, домогающихся любви замужних женщин. Однако подобные сюжеты характерны уже новоарабскому фольклору.
1.2. Три группы арабских сказок.
Как уже было сказано выше, одной из особенностей арабских сказок является создание и распространение в различных социальных средах. Выделяют три группы арабских сказок: бедуинские, крестьянские и городские.
Героем бедуинской сказки является бедуин — рядовой член племени, либо племенной вождь (шейх) или кто-то из его родственников. Сюжет бедуинской сказки можно описать следующим образом: герой находит пастбище для своего племени и отражает набег враждебного племени.
Героем крестьянской сказки соответственно выступает рядовой крестьянин. К крестьянскому фольклору относится также часть сказок о животных. Однако не все сказки, записанные в сельской местности можно считать крестьянскими, так как они могли быть услышаны рассказчиками в других городах. Пример подобной сказки приведен в статье В.В. Лебедева «Словесное искусство наследников Шахразады», где автор говорит, что сказка «Слуга и царская дочь» хоть и была записана в ливанской деревне Бишмиззин, по сюжету крестьянской не является. Лебедев предполагает, что рассказчик, строитель по профессии, услышал эту сказку от христианина в Бейруте или другом приморском городе.
Большая часть существующих записей арабских сказок сделана в городах: Каире, Дамаске, Мосуле (Ирак), Триполе(Ливия), Тунисе. В городах вместе с городскими зафиксированы и бедуинские и крестьянские сказки. Однако в городских сказках можно ощутить колорит восточного города — узкие улочки, базары, лавки ремесленников. Примерами городских сказок являются такие сказки как «Судья и повар» и «Семь разведенных женщин».
Можно достаточно точно определить социальную среду, в которой созданы и распространены сказки. В деревне это крестьяне среднего достатка, в городе — низшие слои населения: ремесленники, торговцы, мелкие служащие.
В сказках отражается народное мировоззрение, выражены народные представления о социальной справедливости. Наиболее стереотипной развязкой можно назвать женитьбу героя из народа на царской дочери или замужество простой девушки и царевича. Существуют и более оригинальные сюжеты, где герои иными путями добиваются улучшения своего благосостояния.
2. Сказки арабских стран. Общее представление о сказках арабских стран и некоторые их особенности были рассмотрены в первой главе курсовой работы. Во второй главе более подробно будут рассмотрены иранские и иракские сказки, а также сборник сказок «Синдбад-Наме». Сказки эти записаны в сборники, во всех сборниках, переведенных на русский язык, в вступительной статье особое внимание уделяется фигуре сказителя. Сказители — обязательный самостоятельный элемент арабской сказки, на котором стоит остановиться.
Образ сказочника у большинства народов мира имеет много общего: преклонный возраст, длинная борода, палка в руке. Сказитель уважаемый человек, говорит спокойно и на понятном каждому языке. Его репутация должна быть безупречной, а жизнь должна быть наполнена приключениями и путешествиями. Обычно сказитель – мужчина, но В.А. Яременко в вступительной статье к «Сказками и преданиям Ирака» [11] представляет образ сказителя-женщины. Это должна быть пожилая женщина, имеющая, как правило, десять и более детей. «Ее лицо, руки и ноги разукрашены наколками различной формы и цвета в соответствии с древней народной традицией, считавшей, что татуировка ограждает человека от завистливых глаз, болезней, смерти детей, вселяет ум и сообразительность. … Традиционное ее убранство состоит из длинного черного платья (дишдаши) и тапочек на босу ногу. На плече висит вместительная сумка для подарков, а рядом играют несколько внуков. На большие расстояния она передвигается исключительно на ослиной упряжке» [11, с.17]. Иракская сказительница может свободно ходить с открытым лицом, разговаривать с чужими мужчинами и даже давать им советы и наставления.
Так как сказка является важным атрибутом народных торжеств, ни один праздник не обходится без приглашенного сказителя. Обычно сказитель садиться рядом с хозяином дома. Иногда ему отводится специальное место в помещении. Ему одному из первых подносят угощения. Время для прослушивания сказок определяет хозяин торжества. Как правило, сказки исполняются перед подачей сладкого и фруктов. Во время исполнения сказочник сидит на своем месте, курит, пьет чай или кофе. Если события в сказке вызвали оживление и смех, сказитель не мешает аудитории выразить свои эмоции и может повторить понравившийся эпизод. Сам сказитель ведет себя сдержанно, с достоинством, трагические и комические моменты передаются им ритмом повествования, мимикой и жестами.
Важен для сказителя и репертуар сказок, который зависит от цели торжества, состава аудитории, региона, наличия времени и многих других факторов. Зная характер аудитории, исполнитель подбирает сказки малоизвестные большинству.
Закончив рассказ, сказитель благодарит публику за внимание, а хозяина дома – за гостеприимство, предлагает рассказать еще несколько историй после перерыва. В менее торжественных ситуация роль сказителя отводится одному из членов семьи.
Рассмотрев образ сказителя, того, кто передает сказки из поколения в поколения, можно перейти непосредственно к самим сказкам арабских стран.
2.1. Сказка Ирака.
Иракские народные сказки интересны с историко-культурной точки зрения. Они показывают мир средневекового Арабского Востока, богатства и роскошь Багдадского халифата, описывают дальние путешествия и судьбы героев. Сказки дают яркое представление о развитии иракского общества и формировании нравов и традиций, раскрывают положительные и отрицательные стороны социального быта. «Все жизненные коллизии происходят на фоне определенной социальной среды, внутри которой господствуют свои законы и порядки, иногда жестокие и бесчеловечные («Хасан, который ест кожуру бобов», «Странный обет»)» [11, с. 8]. Так же важным моментом является то, что народная сказка в Ираке выполняет функции и слабо развитой детской литературы.
Из всех жанровых разновидностей наибольшее развитие в Ираке получила волшебная сказка. По сюжетному составу волшебные сказки сходны с сказками других народов мира, во многих случаях международные сказки получают в них традиционное развитие. Однако эти сюжеты в иракской сказке могут обрести и совершенно иной облик. Например, в основе сказок «Золотая гроздь» и «Фильфиль Дару»лежит сюжет схожий с сюжетом «Аленького цветочка». Иракская сказка сохраняет традиционное начало: младшая дочь просит отца привезти ей необычный подарок (в одном случае — золотую гроздь винограда, в другом — неизвестное отцу «фильфиль дару»). Отец выполняет просьбу дочери, но вынужден пообещать ее в жены «неведомо кому». Далее сюжет развивается нетрадиционно: девушка становится женою не заколдованного юноши, обращенного в чудовище, а обыкновенного мужчины, который запрещает ей заходить в седьмую комнату. Она нарушает запрет, после чего сбегает от мужа, но в итоге сказки счастливый конец.
Другим примером может стать сказка «Верность» с сходным сюжетом сказки «Безручка» о золовке, которую молодая жена пытается извести. Чтобы опорочить золовку, невестка накормила ее яйцами жаворонка, отчего она понесла, родила трех птичек, которые рассказали ее брату правду о коварстве жены. Особенностью «Верности» является то, что сюжет этой сказки простой и типичный, видно, что это ранняя сказка, однако, действие перенесено в современные условия (герои живут в городе, брат героини ходит на службу, жена ведет дом).
Многие международные сюжеты, лежащие в основе этих сказок, значительно трансформированы: их действие происходит в современных условиях, роль чудесных предметов и помощников незначительна, в сказках упоминаются не только давние традиции, но и современные обычаи. С этим же связано изменение состава сказочных персонажей: султан, царь, принц, принцесса реже фигурируют в волшебных сказках, чем купец, горожанин, ремесленник или бедняк. Также среди персонажей сказок, а именно среди чудесных помощников и антагонистов героя, нет четкого разделения, джинны и демоны в одной сказке могут быть чудесными помощниками, а в другой — антагонистами. Джинны и демоны — наиболее архаичные персонажи, вошедшие в иракскую сказку еще в доисламскую эпоху. Они считались добрыми духами, приходящими на помощь людям. Со временем джинны и демоны утратили черты, отличавшие их от антиподов — шайтана и черта, и получили негативную окраску.
«Своеобразие сюжетного состава иракских волшебных сказок и в том, что они, в отличие от сказок многих других народов, как правило, односоставны, т.е. состоят из одного сюжета» [11, с.10]. Обычно в сказке повествуется о судьбе и приключениях одного (главного) героя, в отношениях с которым раскрываются все остальные сказочные персонажи. В центре повествования — главный герой. Он может быть сыном царя или крестьянина, его достоинства не определяются социальным положением. Независимо от происхождения герой иракской сказки воплощает в себе лучшие, по народным представлениям, черты — бесстрашие в честном поединке с врагом, великодушие к братьям врага, щедрость.
Если говорить о поэтике волшебной сказки народов Ирака, то стоит сказать, что она нестандартна и относится в первую очередь к «сказочной обрядности». В волшебной сказке хорошо разработаны традиционные формулы. Наиболее многочисленны инициальные и финальные формулы, то есть те, которыми начинается и заканчивается сказка. Как и в сказках других народов инициальные и финальные формулы подчеркивают условность, ирреальность сказочного повествования: «Было так или не было, но жил на белом свете султан». Во многих случаях такое утверждение подкрепляется ссылкой на Аллаха: «Было так или не было, но мы должны верить Аллаху и проявлять ему послушание и покорность». В финальных формулах фиксируется конец сюжетного действия, говорится о том, что стало с героями: «И ушла коварная женщина из дома, и зажил отец с детьми счастливо» или «И после этого остался он в своей деревне и начал здесь работать, радуясь судьбе и тому, что она дала и дает». Так же в финале сказок звучит благопожелания и наставления слушателям.
Из-за такой особенности волшебной сказки, как перенос действия в современную обстановку, жанровая граница между волшебной и бытовой сказкой размывается. Однако в бытовых сказках более подробно, чем в волшебных описан быт, нравы и обычаи народов Ирака. Из бытовых сказок можно узнать, что принято заключать браки между двоюродными братьями и сестрами, что невесту герою выбирают родственники. В бытовой сказке нет традиционной сказочной обрядности, формул, вводящих слушателей в повествование. Вместе с тем, есть зачины, представляющие главных героев или характеризующие исходную ситуацию.
2.2. Иранская сказочная энциклопедия.
Иранскими сказочными энциклопедиями называют записанные сборники сказок и преданий. Большинство «энциклопедий» записано в XVII – XIX вв. Они содержат различные варианты тех или иных произведений, в частности, «большие версии» и «малые версии». При этом соотношение разных по объему версий различно: иногда «малая» представляет собой конспект «большой», а иногда – более поздняя версия «большой». Авторы исходных текстов неизвестны, все записанные тексты были анонимны. Исходные сюжеты иранских сказок, так же как и иракских знакомы по мировому сказочному фонду. Восходят сюжеты иранских сказок к глубокой древности, многие заимствованы из древнеиранской доисламской литературы, индийской литературы и мусульманских преданий. В глубокой древности сказания, как и везде, являлись устной традиции. С появлением городов традиция эта изменяет форму и становится письменной. И как это свойственно городскому творчеству, такие произведения впитывали в себя письменно-литературные элементы, испытывали воздействие классической фарсиязычной поэзии, мистической-суфийских преданий о «святых», религиозно-философские элементы. Язык иранской сказки, оставаясь разговорным, становился более общелитературным, сложились более четкие принципы композиции: сосредоточение множества эпизодов вокруг одного стержня – «рамки» («обрамленная повесть»), либо применение вставной новеллы, сказки в сказке. В итоге, сформировались основные жанровые формы (дастан – роман, киса – повесть, хикаят – рассказ, латифа – анекдот), отличающие себя от народной сказки тем, что герой в них действует более активно и осмысленно, больше внимания уделяется душевному миру, психологии.
В сказочных произведениях отчетливо выражена народная тенденция (общечеловеческая мораль, нравственные нормы, народные идеи) и народно-гуманистическая концепция личности – личности благородной, доброжелательной, мужественной и человеколюбивой. Эта концепция отображена в образах справедливого царя или справедливого народного царства.
В качестве примера иранской сказки-романа можно взять «Семь приключений Хатема», являющуюся характерным образцом сказочного романа. Прототипом героя, давшего имя роману, послужило полуисторическое-полулегендарное лицо – арабский (бедуинский) поэт Хатем из племени Тай (V-VI вв.), славившийся своим сказочным гостеприимством, благожелательностью и радушием. По законам волшебной сказки «простой» поэт превращается в сказочного принца. Романом это произведение следует считать, принимая во внимание не только объем, но и его существенные особенности – отражение социальной жизни и общественных конфликтов в широком плане, изображение человеческой личности, ее помыслов и активности. Роман создан по «рамочному» принципу с вставными новеллами. «Семь приключений Хатема» ближе всего подходят к любовно-авантюрному роману с отчетливо выраженной гуманистической идеей самоотверженности, воплощенной в главном герое произведения – Хатеме и являющейся стержнем всего романа, тогда как семь приключений Хатема составляют его «рамку». Рамка эта числового ряда связана с «счастливым числом» семь. Сходные «числовые рамки» свойственны и другим сказкам: «Четыре дервиша», «Семь зрелищ», «Десять визирей». В них, в отличие от «Тысяча и одной ночи», рамку составляют не рассказы самого героя, а события, связанные с его действиями.
Иранские сказки, не смотря на то, что содержат в себе большое количество фантастических элементов, носят также и реалистическое начало. Так, например, в письменной сказочной прозе всегда даны географические данные, всегда обозначено место действия сказки, даже если оно не совпадает в сказках с указанными местностями. Важно то, что оно обозначено, в отличие от сказок других народов, где преобладает зачин «В некоем царстве, в неизвестном государстве…», «Было, не было, но случилось так, что…». Это характерная особенность иранских сказок.
2.3. «Синдбад-Наме» - персидские сказания.
«Синдаб-наме» означает «Книга о Синдбаде». Синдбад – арабизированная форма индийского имени, широко известного по сказкам «Тысячи и одной ночи». Рассказы о Синдбаде-мореходе – один из самых популярных разделов сборника. Но стоит сразу оговориться, Синдбад из «1001 ночи» и «Книги» - это два разных героя. Рассказы о Синдбаде-мореплавателе это компиляция морских рассказов, распространенных в Х в. в Басре, портовом городе арабского аббасидского халифата. Эти рассказы оформились к XV в. в цикл, вошедший в сборник сказок Шахразады. Герой же «Книги о Синдбаде» - мудрец-мыслитель, герой обрамляющего, основного рассказа.
В основу «Книги о Синдбаде» легло сказание под названием «Синдбад и коварство женщин». Синдбад здесь мудрец, воспитатель царевича, ставшего жертвой клеветы рабыни его отца. Составив гороскоп царевича, Синдбад узнает, что царевич должен молчать в течение недели, когда с ним случится беда. Так как царевич не может из-за этого защитить себя сам, в его защиту выступают семь везиров, которые стараются оттянуть время и не дать казнить наследника, чтобы через неделю тот смог оправдаться сам. Все герои сказки свои утверждения доказывают путем приведения притч. Всего в сборнике приведено тридцать четыре притчи. Притчи написаны вычурным языком, использован пример баснописцев, когда в качестве действующих лиц выступают животные и их характерные черты применяются как маски для человеческих характеров. Е.Э.Бертельс в статье «Образец Таджикской художественной прозы XII века» приводит в качестве примера четыре притчи, здесь же в сокращении приведена только одна, первая из притч, рассказанных сыном падишаха.
«Лиса нашла на дороге рыбу. Она обрадовалась этой неожиданной удаче, но по свойственной ей осторожности призадумалась: «Тут поблизости нет реки, нет и лавки, где можно было бы достать рыбу, верно, тут какая-нибудь хитрость». Лиса пошла дальше и встретила обезьяну. Поклонившись обезьяне, она сказала: «Меня послали к тебе звери. Наш царь лев слишком свиреп и кровожаден. Мы решили низложить его и взамен посадить на трон тебя; если ты согласна, пожалуй за мной». Предложение это обезьяне польстило, и она пошла за лисой. Когда они подходили к месту, где валялась рыбу, лиса сложила лапы и стала молиться: «Пошли нам знамение и сотвори какое-нибудь чудо в знак того, что наш выбор правилен». Пришли к рыбе, и лиса тотчас же завопила: «Молитва наша услышала, вот оно чудо, о котором мы просили! Эту рыбу бог послал тебе!» Обрадованная обезьяна протянула руку, схватила рыбу и, конечно, тотчас же попала в капкан. Сперепугу она выронила рыбу, лиса подобрала ее и стала есть. Обезьяна спросила: «Что это ты ешь и что такое меня держит?» Лиса ответила: «Цари не могут обойтись без оков и тюрьмы, а раятам неизбежно нужен кусок и глоток». [2, с.300]
Эта притча учит слушателя не поддаваться лести. Другие притчи также носят поучительный характер. В целом, основное назначение произведения – показать, как осмотрительно следует относиться к человеческой жизни и как важно иметь вокруг себя мудрых советников. Мухаммад Аз-Захири Ас-Самарканди, составитель сборника «Синдбад-наме» вводит также поучения об управления страной.
«Синдбад-наме» или «Книга о Синдбаде» - «рамочный» сборник рассказов, притч и анекдотов, собранный Мухаммадом Аз-Захири Ас-Самарканди.
3. Сказки «Тысячи и одной ночи»«Тысяча и одна ночь» - это свод очень разнохарактерных повествований, построенный по рамочному принципу. Разнохарактерность сказок объясняется путем формирования сборника. Фильштинский пишет по этому поводу: «У непосвященных в историю этой книги может сложиться ошибочное представление, будто «Тысяча и одна ночь» - это собрание исключительно арабских сказок. На самом деле в создании этого грандиозного свода принимали участие своим фольклорным и литературным наследием многие народы, хотя окончательную форму он приобрел на арабском языке, прочно войдя в историю народной словесности».
Сказкам, входящих в состав «Тысячи и одной ночи предпослан рассказ о том, что столкнувшись с неверностью первой жены, царь Шахрияр отправился к своему брату Шахземану поделиться горем. Однако жена брата оказалась ещё более распутной, чем жена Шахрияра. А вскоре братья встретили женщину, которая носила ожерелье из 570 перстеней. Столько раз она изменила своему мужу джинну прямо в его присутствие, пока тот спал. Братья вернулись к себе домой и казнили своих жён. С тех пор, поняв, что все женщины распутны, Шахрияр каждый день берёт новую жену и казнит её на рассвете следующего дня. Однако этот страшный порядок нарушается, когда он женится на Шахерезаде — мудрой дочери своего визиря. Каждую ночь она рассказывает увлекательную историю и прерывает рассказ «на самом интересном месте, после чего ложись вместе спать» — и царь не в силах отказаться услышать окончание истории. Каждое утро он думает: «Казнить её я смогу и завтра, а этой ночью услышу окончание истории». Так продолжается тысячу и одну ночь. По прошествии их Шахерезада пришла к мужу с тремя сыновьями, рожденными за это время, «один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь». Во имя них Шахерезада попросила мужа не казнить её. На что Шахрияр ответил, что помиловал её ещё раньше, до появления детей, потому что она чиста, целомудренна и богобоязненна.
3.1. История формирования сборника
Ученые выделяют три этапа в формировании сборника: индо-иранские, арабские (багдадские) и египетские (каирские) и соответственные этим этапам сказки. Источники формирования свода многообразны, а история формирования длительна.
В результате арабских завоеваний VII – VIII вв. образовалась огромная арабо-мусульманская империя – Халифат, которую составили разные народы, принявшие арабский язык в качестве языка культуры и имевшие между собой тесные контакты. Предполагают, что в X – XII веках оформилась ранняя багдадская редакция «Тысячи и одной ночи». В нее вошли индо-иранские сказки из сборника «Тысяча преданий», переведенные с персидского, а также различные повествования из арабского фольклора. В переводе персидское название заменили на «Тысячу ночей». В собрание были помещены также и рассказы из других не арабских источников, среди них – библейские притчи.
К XII-XIII векам относится каирская редакция, которая впитала в себя сюжеты египетского происхождения и получила наименование «Тысяча и одна ночь». Число «тысяча и один» сначала воспринималось как неопределенное множество, но со временем его стали понимать буквально, и составители стремились дополнить свод различными произведениями, с целью «добрать» сказки до тысячи и одной.
Существуют различные гипотезы о источниках и этапах формирования свода сказок «Тысяча и одна ночь». В данной работе приведены две из них. Они интересны для данной работы тем, что представляют разные точки зрения на формирования сборника.
Гипотеза Хаммер-Пургшталя
При исследовании вопроса о происхождении и составе сборника европейские учёные расходились в двух направлениях. Й. фон Хаммер-Пургшталь придерживался теории индийского и персидского происхождение, ссылаясь на слова Мас’удия и библиографа Надима (до 987 г.), что староперсидский сборник «Хезâр-эфсâне» («Тысяча сказок»), происхождения ахеменидского, либо арзакидского и сасанидского, был переведен лучшими арабскими литераторами при Аббасидах на арабский язык и известен под именем «1001 ночи». По теории Хаммера, перевод персидского «Хезâр-эфсâне», постоянно переписываемый, разрастался и принимал, ещё при Аббасидах, в свою удобную рамку новые наслоения и новые прибавки, большей частью из других аналогичных индийско-персидских сборников (среди которых, например, «Синдбâдова книга») или даже из произведений греческих; когда центр арабского литературного процветания перенесся в XII—XIII вв. из Азии в Египет, 1001 ночь усиленно переписывалась там и новые переписчики вносили новые наслоения: группу рассказов о славных минувших временах халифата с центральной фигурой халифа Гаруна ар-Рашида (786—809), а несколько позже — свои местные рассказы из периода египетской династии вторых мамелюков (так называемых черкесских или борджитских). Когда завоевание Египта османами подорвало арабскую интеллектуальную жизнь и литературу, то «1001 ночь», по мнению Хаммера, перестала разрастаться.
Гипотеза де Саси
Радикально противоположное воззрение высказано было Сильвестром де Саси. Он доказывал, что весь дух и мировоззрение «1001 ночи» — насквозь мусульманские, нравы — арабские и притом довольно поздние, уже не аббасидского периода, обычная сцена действия — арабские места (Багдад, Мосул, Дамаск, Каир), язык — не классический арабский, а скорее простонародный, с проявлением сирийских диалектических особенностей, то есть близкий к эпохе литературного упадка. Отсюда у де Саси следовал вывод, что «1001 ночь» есть вполне арабское произведение, составленное не постепенно, а сразу, одним автором, в Сирии, около половины XV в.; смерть, вероятно, прервала работу сирийца-составителя, и потому «1001 ночь» была закончена его продолжателями, которые и добавляли к сборнику разные концовки из другого сказочного материала, ходившего среди арабов, — например, из Путешествий Синдбада, Синдбâдовой книги о женском коварстве и т. п. Из персидского «Хезâр-эфсâне», по убеждению де Саси, сирийский составитель арабской «1001 ночи» ничего не взял, кроме заглавия и рамки, то есть манеры вкладывать сказки в уста Шахразады.
3.2. Основные группы сказок, включенных в «1001 ночь»
Сказки Шахразады могут быть разбиты на три основные группы, которые условно можно назвать сказками героическими, авантюрными и плутовскими. К группе героических сказок относятся фантастические повести, составляющие древнейшее ядро «1001 ночи» и восходящие некоторыми своими чертами к ее персидскому прототипу «Хезар-Эфсане», а также длинные рыцарские романы эпического характера. Стиль этих повестей — торжественный и мрачный; главными действующими лицами в них обычно являются цари и их вельможи. В литературном отношении героические повести обработаны более тщательно, чем другие; обороты народной речи из них изгнаны, стихотворные вставки — по большей части цитаты из классических арабских поэтов обильны. К «придворным» сказкам относятся, например: «Камар-аз-Заман и Будур», «Ведр-Басим и Джанхар», «Повесть о царе Омаре ибн-ан-Нумане», «Аджиб и Тариб» и некоторые другие. Совсем другие настроения в «авантюрных» новеллах, возникших в торговой и ремесленной среде. Цари и султаны выступают в них не как персонажи высшего порядка, а как самые обыкновенные люди; излюбленным типом правителя является знаменитый Харун-ар-Рашид, правивший с 786 по 809, т. е. значительно раньше, чем приняли свою окончательную форму сказки Шахразады. Упоминания о халифе Харуне и его столице Багдаде не могут поэтому служить основой для датировки «Ночей». Подлинный Харун-ар-Рашид был очень мало похож на доброго, великодушного государя из «1001 ночи», а сказки, в которых он участвует, судя по их языку, стилю и встречающимся в них бытовым подробностям, могли сложиться только в Египте. По содержанию большинство «авантюрных» сказок — типичные городские фабльо. Это чаще всего любовные истории, героями которых являются богатые купцы, почти всегда обреченные быть пассивными исполнителями хитроумных планов своих возлюбленных. Последним в сказках этого типа обычно принадлежит первенствующая роль — черта, резко отличающая «авантюрные» повести от «героических». Типичными для этой группы сказок являются: «Повесть об Абу-ль-Хасане из Омана», «Абу-ль-Хасан Хорасанец», «Нима и Нуби», «Любящий и любимый», «Аладдин и волшебная лампа».
«Плутовские» сказки натуралистично показывают жизнь городской бедноты и деклассированных элементов. Героями их обычно являются ловкие мошенники и плуты — как мужчины, так и женщины, например, бессмертные в арабской сказочной литературе Али-Зейбак и Далила-Хитрица. В этих сказках нет и следа почтения к высшим сословиям; наоборот, «плутовские» сказки полны насмешливых выпадов против представителей власти и духовных лиц. Язык «плутовских» повестей близок к разговорному; стихотворных отрывков, малопонятных неискушенным в литературе читателям, в них почти нет. Герои плутовских сказок отличаются мужеством и предприимчивостью и представляют разительный контраст с изнеженными гаремной жизнью героями «авантюрных» сказок. Кроме рассказов об Али-Зейбаке и Далиле, к плутовским сказкам относятся я повесть о Матуфе-башмачнике, сказка о халифе-рыбаке и рыбаке Халифе, стоящая на грани между рассказами «авантюрного» и «плутовского» типа, и некоторые другие повести.
Литература1. В.П. Аникин. Сказки народов мира; Тысяча и одна ночь. М.: Дет. Лит. 1985г.
2. Е.Э.Бертельс. Статья «Образец Таджикской художественной прозы XII века». Синдбад-Наме, стр. 296.
3. Под ред. А.К. Боровкова. Сказки народов Востока. М.-Л., Академия Наук СССР. 1938 г.
4. Составитель, предисловие И.Брагинского.Иранская сказочная энциклопедия. М.: «Художественная литература». 1977г.
5. И.С. Быстров. Сказки народов Востока. М.: Изд. Вост. Лит. 1962 г.
6. В.В. Лебедев. Арабские народные сказки. М.: Наука. 1990 г.
7. И.Г. Лившиц. Сказки и повести Древнего Египта. Л.: Наука. Ленинградское отд-ние. 1979.
8. Под ред. П.П. Петров. Арабские народные пословицы и поговорки. М.: Изд. Иностр. Лит. 1961 г.
9. Вступительная статья А.А. Старикова. Синдбад-Наме. Мухаммад Аз-Захири Ас-Самарканди. Перевод М.-Н. Османова. М.: Вост. Лит. 1960г.
10. И.М. Фильштинский Арабская средневековая культура и литература. М.: Наука. 1978 г.
11. В.А. Яременко. Сказки и предания Ирака. М.: Наука 1990г.
12. Книга тысячи и одной ночи. М. Гослитиздат. 1958 г.
1. Особенности арабской сказки.У широкого круга читателей с арабскими сказками первым ассоциируется только один сборник сказок - «Тысяча и одна ночь». Это наиболее выдающийся и самый популярный сборник сказок. На него же опираются и исследователи арабской литературы. Если речь идет об иранских или иракских сказках, цикле сказок о Синдбаде, который также включен в сборник «Тысячи и одной ночи», в работе обязательно встретится ссылка на «Тысячу и одну ночь», хотя тут же может быть выражено негативное мнение автора по отношению к этому сборнику. Так В.В. Лебедев в своей статье «Словесное наследие Шахразады» говорит, что данный сборник не может дать представления о подлинных арабских сказках, так как «Оригинал «1001 ночи» - не запись текстов, рассказывавшихся изустно, а литературный сборник, имевший многовековую письменную традицию, причем в основе этого сборника лежала переведенная на арабский язык примерно в IX в персидская литературная антология «Хезар эфсане («Тысяча рассказов»)». [6, с.5] Источниками же этой антологии стал древний фольклор Индии и Ирана. Таким образом, на арабскую почву многие сказки вошедшие в сборник «Тысячи и одной ночи» пришли уже в литературной обработке, что, по мнению Лебедева, делает эти сказки арабскими «весьма условно». Однако стоит отметить, что некоторые из сказок «Тысячи и одной ночи» формировались в средние века уже на арабской почве (в Ираке, Сирии и других арабских странах). Вместе с тем, Лебедев говорит именно о народных арабских сказках, которые пересказываются вовсе не литературным языком, языком Корана и классической арабской поэзии, как сказки «Тысячи и одной ночи», а рассказываются на живом разговорном диалекте.
Переходя непосредственно к особенностям арабской сказки стоит отметить экзотичность персонажей сказок, так скажем, если речь идет о животной сказке, то вместо традиционных для европейских сказок волка или медведя будут представлены шакал или пантера. Кроме этого можно выделить существенную черту арабских сказок — значительное видоизменение распространенных сюжетов. Лебедев называет их «бродячими» сюжетами. В качестве примера такого неожиданного видоизменения сказки можно привести сказку Саудовской Аравии «Лиса и гиена», сюжет которой напоминает сказку «Волк и семеро козлят». Здесь необычен состав животных, так вместо волка выступает лиса, а место козлят занимают детеныши хищницы-гиены. Вторая часть этой сказки также отличается от европейского варианта. Лисе так и не удается поймать гиенышей и она, испугавшись мести гиены, покидает место обитания и увозит свою бабушку. В дороге бабушка умирает по вине крестьянина. Лисе предлагают выкуп за бабушку, поначалу она отказывается, но потом всё-таки соглашается и забирает выкуп. У Лисы появляются «дружки», претендующие на часть этих денег, но по совету «одного умного знакомого» она вкладывает эти деньги в торговые дела и «живет припеваючи».
В волшебных сказках развитие сюжета сконцентрировано вокруг главного героя, который всегда является чудесным героем с присущим чудесным рождением, ростом, обладанием сверхъестественными силами или чудесными помощниками, которыми выступают обычно добрые духи, волшебники, мусульманские святые и мертвецы. Отдельную группу составляют волшебные сказки, где героем является женщина.
Бытовые сказки и анекдоты можно назвать самостоятельной особенностью арабских сказок. Герои этих сказок не сталкиваются с сверхъестественными чудовищами и колдунами, они действуют в обычных ситуациях, но действия их могут быть необычны. В.В. Лебедев приводит пример такого необычного поведения: «купец, стремясь показать сыну цену подлинной дружбы, объявляет мнимым друзьям сына, что тот убил человека (а за убитого выдает завернутого в саван жареного барана); бедняк, выгодно продав кошку, затем совершает ряд неудачных обменов, но в итоге все же получает целый вьюк золото и т.п.» [6, с.10]
Еще одна особенность арабских сказок — создание и распространение их в различных социальных средах. Так по происхождению и среде распространения сказки можно разделить на три группы: бедуинские, крестьянские и городские.
Все эти типы (животная, волшебная и бытовая) и группы (бедуинская, крестьянская и городская) сказок более подробно рассмотрены ниже. Здесь же стоит сказать о том, что для сборников сказок типа «Тысяча и одна ночь» характерна композиционно рамочная конструкция, новые же арабские сказки ее не имеют, так как такая конструкция присуща произведениям большего объема. Если говорить о языке сказок, то можно отметить, что в сказках обычная проза чередуется с рифмованной, встречаются и стихотворения. Для арабского фольклора и арабской литературы в принципе характерно применение рифмованной прозы, сочетание прозы и стихов в пределах одного повествования. Лебедев говорит о том, что функции стихов и рифмованной прозы в сказках нуждаются в дополнительном изучении и в порядке предварительных замечаний отмечает, что «рассказчик обычно обращается к стихам для создания у слушателей определенного эмоционального состояния. В стихотворную форму облекается какой-то важный элемент повествования, определяющий дальнейшее поведение героя» [6, с.18.]
Теперь, когда представлены ключевые особенности арабских сказок можно перейти к более подробному рассмотрению типов и групп арабских сказок.
1.1. Типы арабской сказки.
Как уже говорилось выше, исследователи обычно выделяют три типа сказок — сказки о животных, волшебную сказку и бытовые сказки и анекдоты.
Сказки о животных возникли в глубокой древности, они объясняют происхождение тех или иных повадок у зверей, откуда пошли различные бытовые традиции. Животные сказки также являются и иносказательными. Помимо поясняющей роли, они исполняют еще сатирическую и морализующую. Так, сказки о животных высмеивают глупость, жадность, жестокость и другие пороки.
Возвращаясь к вышеприведенному примеру животной сказки «Лиса и гиена», стоит сказать, что на арабской почве был зафиксирован и другой, более близкий к «Волку и семерым козлятам» вариант — в палестинской сказке «Коза-козочка», нападающей стороной является гиена, в итоге она погибает в схватке с козой.
Сюжеты животных сказок усложняются, сочетаются с мотивами и элементами сказок других жанров — это характерно для сказок нового времени.
Действие волшебной сказки, как было сказано выше, обычно сконцентрировано вокруг одной фигуры главного героя. Однако в сказке может быть и два героя, например, отец и сын или брат и сестра. Крайне редко встречаются волшебные сказки с тремя героями. Герой волшебной сказки отличается необыкновенным умом, удивительной красотой и богатырской силой. Рождение героя тоже может быть связано с чудом, например, в палестинской сказке «Дети черепа» главные герои рождаются от того, что их мать попробовала порошок из ступки, где ее отец истолок череп. Другой чудесной характеристикой является то, что герой растет не по дням, а по часам. Салим из сказки «Дети черепа» «к одиннадцати годам был уже ростом и телосложением как взрослый мужчина». Герои сказок сражаются с сверхъестественными чудовищами и всегда побеждают. Нередко героям противостоят и люди, в том числе близкие родственники.
Сюжеты и мотивы волшебных сказок нельзя назвать разнообразными. Обычно волшебная сказка сводится к повествованию о путешествии героя в поисках возлюбленной, живущей «за тридевять земель» или похищенной сверхъестественным существом.
Еще один тип сказок, бытовые сказки, лишен фантастического элемента. «Герой бытовой сказки добивается успеха благодаря собственной силе, смелости, ловкости, хитрости».[6, с.10] У героя бытовой сказки также, как и у героя сказки волшебной есть помощники, но это не представители сверхъестественных сил, а обычные люди. Особой популярностью на Востоке пользуются бытовые сказки, рассказывающие о проделках хитрецов. Популярнейшим персонажем подобных сказок и анекдотов является Джуха, выступающий в одних рассказах в качестве простака, в других — в качестве остроумного хитреца, в третьих – сочетающий обе эти черты. Еще в средние века существовала поговорка «Глупее Джухи», зафиксированная в своде пословиц и поговорок, составленном в XII веке. По популярности с Джухой может соперничать только Мулла Насреддин, о котором сочиняют сказки даже в настоящее время, в них можно встретить Насреддина в современных бытовых условиях. Также популярны сказки о женской и детской сметливости. Есть сказки, в которых резкому осмеянию подвергаются духовные лица и судьи. В этих сказках образы священнослужителей и блюстителей закона выведены резко сатирически. Сказители смеются над глупым судьей-взяточником из иракской сказки «Дочь купца», пытающимся обольстить юную девушку, над служителями культа, домогающихся любви замужних женщин. Однако подобные сюжеты характерны уже новоарабскому фольклору.
1.2. Три группы арабских сказок.
Как уже было сказано выше, одной из особенностей арабских сказок является создание и распространение в различных социальных средах. Выделяют три группы арабских сказок: бедуинские, крестьянские и городские.
Героем бедуинской сказки является бедуин — рядовой член племени, либо племенной вождь (шейх) или кто-то из его родственников. Сюжет бедуинской сказки можно описать следующим образом: герой находит пастбище для своего племени и отражает набег враждебного племени.
Героем крестьянской сказки соответственно выступает рядовой крестьянин. К крестьянскому фольклору относится также часть сказок о животных. Однако не все сказки, записанные в сельской местности можно считать крестьянскими, так как они могли быть услышаны рассказчиками в других городах. Пример подобной сказки приведен в статье В.В. Лебедева «Словесное искусство наследников Шахразады», где автор говорит, что сказка «Слуга и царская дочь» хоть и была записана в ливанской деревне Бишмиззин, по сюжету крестьянской не является. Лебедев предполагает, что рассказчик, строитель по профессии, услышал эту сказку от христианина в Бейруте или другом приморском городе.
Большая часть существующих записей арабских сказок сделана в городах: Каире, Дамаске, Мосуле (Ирак), Триполе(Ливия), Тунисе. В городах вместе с городскими зафиксированы и бедуинские и крестьянские сказки. Однако в городских сказках можно ощутить колорит восточного города — узкие улочки, базары, лавки ремесленников. Примерами городских сказок являются такие сказки как «Судья и повар» и «Семь разведенных женщин».
Можно достаточно точно определить социальную среду, в которой созданы и распространены сказки. В деревне это крестьяне среднего достатка, в городе — низшие слои населения: ремесленники, торговцы, мелкие служащие.
В сказках отражается народное мировоззрение, выражены народные представления о социальной справедливости. Наиболее стереотипной развязкой можно назвать женитьбу героя из народа на царской дочери или замужество простой девушки и царевича. Существуют и более оригинальные сюжеты, где герои иными путями добиваются улучшения своего благосостояния.
2. Сказки арабских стран. Общее представление о сказках арабских стран и некоторые их особенности были рассмотрены в первой главе курсовой работы. Во второй главе более подробно будут рассмотрены иранские и иракские сказки, а также сборник сказок «Синдбад-Наме». Сказки эти записаны в сборники, во всех сборниках, переведенных на русский язык, в вступительной статье особое внимание уделяется фигуре сказителя. Сказители — обязательный самостоятельный элемент арабской сказки, на котором стоит остановиться.
Образ сказочника у большинства народов мира имеет много общего: преклонный возраст, длинная борода, палка в руке. Сказитель уважаемый человек, говорит спокойно и на понятном каждому языке. Его репутация должна быть безупречной, а жизнь должна быть наполнена приключениями и путешествиями. Обычно сказитель – мужчина, но В.А. Яременко в вступительной статье к «Сказками и преданиям Ирака» [11] представляет образ сказителя-женщины. Это должна быть пожилая женщина, имеющая, как правило, десять и более детей. «Ее лицо, руки и ноги разукрашены наколками различной формы и цвета в соответствии с древней народной традицией, считавшей, что татуировка ограждает человека от завистливых глаз, болезней, смерти детей, вселяет ум и сообразительность. … Традиционное ее убранство состоит из длинного черного платья (дишдаши) и тапочек на босу ногу. На плече висит вместительная сумка для подарков, а рядом играют несколько внуков. На большие расстояния она передвигается исключительно на ослиной упряжке» [11, с.17]. Иракская сказительница может свободно ходить с открытым лицом, разговаривать с чужими мужчинами и даже давать им советы и наставления.
Так как сказка является важным атрибутом народных торжеств, ни один праздник не обходится без приглашенного сказителя. Обычно сказитель садиться рядом с хозяином дома. Иногда ему отводится специальное место в помещении. Ему одному из первых подносят угощения. Время для прослушивания сказок определяет хозяин торжества. Как правило, сказки исполняются перед подачей сладкого и фруктов. Во время исполнения сказочник сидит на своем месте, курит, пьет чай или кофе. Если события в сказке вызвали оживление и смех, сказитель не мешает аудитории выразить свои эмоции и может повторить понравившийся эпизод. Сам сказитель ведет себя сдержанно, с достоинством, трагические и комические моменты передаются им ритмом повествования, мимикой и жестами.
Важен для сказителя и репертуар сказок, который зависит от цели торжества, состава аудитории, региона, наличия времени и многих других факторов. Зная характер аудитории, исполнитель подбирает сказки малоизвестные большинству.
Закончив рассказ, сказитель благодарит публику за внимание, а хозяина дома – за гостеприимство, предлагает рассказать еще несколько историй после перерыва. В менее торжественных ситуация роль сказителя отводится одному из членов семьи.
Рассмотрев образ сказителя, того, кто передает сказки из поколения в поколения, можно перейти непосредственно к самим сказкам арабских стран.
2.1. Сказка Ирака.
Иракские народные сказки интересны с историко-культурной точки зрения. Они показывают мир средневекового Арабского Востока, богатства и роскошь Багдадского халифата, описывают дальние путешествия и судьбы героев. Сказки дают яркое представление о развитии иракского общества и формировании нравов и традиций, раскрывают положительные и отрицательные стороны социального быта. «Все жизненные коллизии происходят на фоне определенной социальной среды, внутри которой господствуют свои законы и порядки, иногда жестокие и бесчеловечные («Хасан, который ест кожуру бобов», «Странный обет»)» [11, с. 8]. Так же важным моментом является то, что народная сказка в Ираке выполняет функции и слабо развитой детской литературы.
Из всех жанровых разновидностей наибольшее развитие в Ираке получила волшебная сказка. По сюжетному составу волшебные сказки сходны с сказками других народов мира, во многих случаях международные сказки получают в них традиционное развитие. Однако эти сюжеты в иракской сказке могут обрести и совершенно иной облик. Например, в основе сказок «Золотая гроздь» и «Фильфиль Дару»лежит сюжет схожий с сюжетом «Аленького цветочка». Иракская сказка сохраняет традиционное начало: младшая дочь просит отца привезти ей необычный подарок (в одном случае — золотую гроздь винограда, в другом — неизвестное отцу «фильфиль дару»). Отец выполняет просьбу дочери, но вынужден пообещать ее в жены «неведомо кому». Далее сюжет развивается нетрадиционно: девушка становится женою не заколдованного юноши, обращенного в чудовище, а обыкновенного мужчины, который запрещает ей заходить в седьмую комнату. Она нарушает запрет, после чего сбегает от мужа, но в итоге сказки счастливый конец.
Другим примером может стать сказка «Верность» с сходным сюжетом сказки «Безручка» о золовке, которую молодая жена пытается извести. Чтобы опорочить золовку, невестка накормила ее яйцами жаворонка, отчего она понесла, родила трех птичек, которые рассказали ее брату правду о коварстве жены. Особенностью «Верности» является то, что сюжет этой сказки простой и типичный, видно, что это ранняя сказка, однако, действие перенесено в современные условия (герои живут в городе, брат героини ходит на службу, жена ведет дом).
Многие международные сюжеты, лежащие в основе этих сказок, значительно трансформированы: их действие происходит в современных условиях, роль чудесных предметов и помощников незначительна, в сказках упоминаются не только давние традиции, но и современные обычаи. С этим же связано изменение состава сказочных персонажей: султан, царь, принц, принцесса реже фигурируют в волшебных сказках, чем купец, горожанин, ремесленник или бедняк. Также среди персонажей сказок, а именно среди чудесных помощников и антагонистов героя, нет четкого разделения, джинны и демоны в одной сказке могут быть чудесными помощниками, а в другой — антагонистами. Джинны и демоны — наиболее архаичные персонажи, вошедшие в иракскую сказку еще в доисламскую эпоху. Они считались добрыми духами, приходящими на помощь людям. Со временем джинны и демоны утратили черты, отличавшие их от антиподов — шайтана и черта, и получили негативную окраску.
«Своеобразие сюжетного состава иракских волшебных сказок и в том, что они, в отличие от сказок многих других народов, как правило, односоставны, т.е. состоят из одного сюжета» [11, с.10]. Обычно в сказке повествуется о судьбе и приключениях одного (главного) героя, в отношениях с которым раскрываются все остальные сказочные персонажи. В центре повествования — главный герой. Он может быть сыном царя или крестьянина, его достоинства не определяются социальным положением. Независимо от происхождения герой иракской сказки воплощает в себе лучшие, по народным представлениям, черты — бесстрашие в честном поединке с врагом, великодушие к братьям врага, щедрость.
Если говорить о поэтике волшебной сказки народов Ирака, то стоит сказать, что она нестандартна и относится в первую очередь к «сказочной обрядности». В волшебной сказке хорошо разработаны традиционные формулы. Наиболее многочисленны инициальные и финальные формулы, то есть те, которыми начинается и заканчивается сказка. Как и в сказках других народов инициальные и финальные формулы подчеркивают условность, ирреальность сказочного повествования: «Было так или не было, но жил на белом свете султан». Во многих случаях такое утверждение подкрепляется ссылкой на Аллаха: «Было так или не было, но мы должны верить Аллаху и проявлять ему послушание и покорность». В финальных формулах фиксируется конец сюжетного действия, говорится о том, что стало с героями: «И ушла коварная женщина из дома, и зажил отец с детьми счастливо» или «И после этого остался он в своей деревне и начал здесь работать, радуясь судьбе и тому, что она дала и дает». Так же в финале сказок звучит благопожелания и наставления слушателям.
Из-за такой особенности волшебной сказки, как перенос действия в современную обстановку, жанровая граница между волшебной и бытовой сказкой размывается. Однако в бытовых сказках более подробно, чем в волшебных описан быт, нравы и обычаи народов Ирака. Из бытовых сказок можно узнать, что принято заключать браки между двоюродными братьями и сестрами, что невесту герою выбирают родственники. В бытовой сказке нет традиционной сказочной обрядности, формул, вводящих слушателей в повествование. Вместе с тем, есть зачины, представляющие главных героев или характеризующие исходную ситуацию.
2.2. Иранская сказочная энциклопедия.
Иранскими сказочными энциклопедиями называют записанные сборники сказок и преданий. Большинство «энциклопедий» записано в XVII – XIX вв. Они содержат различные варианты тех или иных произведений, в частности, «большие версии» и «малые версии». При этом соотношение разных по объему версий различно: иногда «малая» представляет собой конспект «большой», а иногда – более поздняя версия «большой». Авторы исходных текстов неизвестны, все записанные тексты были анонимны. Исходные сюжеты иранских сказок, так же как и иракских знакомы по мировому сказочному фонду. Восходят сюжеты иранских сказок к глубокой древности, многие заимствованы из древнеиранской доисламской литературы, индийской литературы и мусульманских преданий. В глубокой древности сказания, как и везде, являлись устной традиции. С появлением городов традиция эта изменяет форму и становится письменной. И как это свойственно городскому творчеству, такие произведения впитывали в себя письменно-литературные элементы, испытывали воздействие классической фарсиязычной поэзии, мистической-суфийских преданий о «святых», религиозно-философские элементы. Язык иранской сказки, оставаясь разговорным, становился более общелитературным, сложились более четкие принципы композиции: сосредоточение множества эпизодов вокруг одного стержня – «рамки» («обрамленная повесть»), либо применение вставной новеллы, сказки в сказке. В итоге, сформировались основные жанровые формы (дастан – роман, киса – повесть, хикаят – рассказ, латифа – анекдот), отличающие себя от народной сказки тем, что герой в них действует более активно и осмысленно, больше внимания уделяется душевному миру, психологии.
В сказочных произведениях отчетливо выражена народная тенденция (общечеловеческая мораль, нравственные нормы, народные идеи) и народно-гуманистическая концепция личности – личности благородной, доброжелательной, мужественной и человеколюбивой. Эта концепция отображена в образах справедливого царя или справедливого народного царства.
В качестве примера иранской сказки-романа можно взять «Семь приключений Хатема», являющуюся характерным образцом сказочного романа. Прототипом героя, давшего имя роману, послужило полуисторическое-полулегендарное лицо – арабский (бедуинский) поэт Хатем из племени Тай (V-VI вв.), славившийся своим сказочным гостеприимством, благожелательностью и радушием. По законам волшебной сказки «простой» поэт превращается в сказочного принца. Романом это произведение следует считать, принимая во внимание не только объем, но и его существенные особенности – отражение социальной жизни и общественных конфликтов в широком плане, изображение человеческой личности, ее помыслов и активности. Роман создан по «рамочному» принципу с вставными новеллами. «Семь приключений Хатема» ближе всего подходят к любовно-авантюрному роману с отчетливо выраженной гуманистической идеей самоотверженности, воплощенной в главном герое произведения – Хатеме и являющейся стержнем всего романа, тогда как семь приключений Хатема составляют его «рамку». Рамка эта числового ряда связана с «счастливым числом» семь. Сходные «числовые рамки» свойственны и другим сказкам: «Четыре дервиша», «Семь зрелищ», «Десять визирей». В них, в отличие от «Тысяча и одной ночи», рамку составляют не рассказы самого героя, а события, связанные с его действиями.
Иранские сказки, не смотря на то, что содержат в себе большое количество фантастических элементов, носят также и реалистическое начало. Так, например, в письменной сказочной прозе всегда даны географические данные, всегда обозначено место действия сказки, даже если оно не совпадает в сказках с указанными местностями. Важно то, что оно обозначено, в отличие от сказок других народов, где преобладает зачин «В некоем царстве, в неизвестном государстве…», «Было, не было, но случилось так, что…». Это характерная особенность иранских сказок.
2.3. «Синдбад-Наме» - персидские сказания.
«Синдаб-наме» означает «Книга о Синдбаде». Синдбад – арабизированная форма индийского имени, широко известного по сказкам «Тысячи и одной ночи». Рассказы о Синдбаде-мореходе – один из самых популярных разделов сборника. Но стоит сразу оговориться, Синдбад из «1001 ночи» и «Книги» - это два разных героя. Рассказы о Синдбаде-мореплавателе это компиляция морских рассказов, распространенных в Х в. в Басре, портовом городе арабского аббасидского халифата. Эти рассказы оформились к XV в. в цикл, вошедший в сборник сказок Шахразады. Герой же «Книги о Синдбаде» - мудрец-мыслитель, герой обрамляющего, основного рассказа.
В основу «Книги о Синдбаде» легло сказание под названием «Синдбад и коварство женщин». Синдбад здесь мудрец, воспитатель царевича, ставшего жертвой клеветы рабыни его отца. Составив гороскоп царевича, Синдбад узнает, что царевич должен молчать в течение недели, когда с ним случится беда. Так как царевич не может из-за этого защитить себя сам, в его защиту выступают семь везиров, которые стараются оттянуть время и не дать казнить наследника, чтобы через неделю тот смог оправдаться сам. Все герои сказки свои утверждения доказывают путем приведения притч. Всего в сборнике приведено тридцать четыре притчи. Притчи написаны вычурным языком, использован пример баснописцев, когда в качестве действующих лиц выступают животные и их характерные черты применяются как маски для человеческих характеров. Е.Э.Бертельс в статье «Образец Таджикской художественной прозы XII века» приводит в качестве примера четыре притчи, здесь же в сокращении приведена только одна, первая из притч, рассказанных сыном падишаха.
«Лиса нашла на дороге рыбу. Она обрадовалась этой неожиданной удаче, но по свойственной ей осторожности призадумалась: «Тут поблизости нет реки, нет и лавки, где можно было бы достать рыбу, верно, тут какая-нибудь хитрость». Лиса пошла дальше и встретила обезьяну. Поклонившись обезьяне, она сказала: «Меня послали к тебе звери. Наш царь лев слишком свиреп и кровожаден. Мы решили низложить его и взамен посадить на трон тебя; если ты согласна, пожалуй за мной». Предложение это обезьяне польстило, и она пошла за лисой. Когда они подходили к месту, где валялась рыбу, лиса сложила лапы и стала молиться: «Пошли нам знамение и сотвори какое-нибудь чудо в знак того, что наш выбор правилен». Пришли к рыбе, и лиса тотчас же завопила: «Молитва наша услышала, вот оно чудо, о котором мы просили! Эту рыбу бог послал тебе!» Обрадованная обезьяна протянула руку, схватила рыбу и, конечно, тотчас же попала в капкан. Сперепугу она выронила рыбу, лиса подобрала ее и стала есть. Обезьяна спросила: «Что это ты ешь и что такое меня держит?» Лиса ответила: «Цари не могут обойтись без оков и тюрьмы, а раятам неизбежно нужен кусок и глоток». [2, с.300]
Эта притча учит слушателя не поддаваться лести. Другие притчи также носят поучительный характер. В целом, основное назначение произведения – показать, как осмотрительно следует относиться к человеческой жизни и как важно иметь вокруг себя мудрых советников. Мухаммад Аз-Захири Ас-Самарканди, составитель сборника «Синдбад-наме» вводит также поучения об управления страной.
«Синдбад-наме» или «Книга о Синдбаде» - «рамочный» сборник рассказов, притч и анекдотов, собранный Мухаммадом Аз-Захири Ас-Самарканди.
3. Сказки «Тысячи и одной ночи»«Тысяча и одна ночь» - это свод очень разнохарактерных повествований, построенный по рамочному принципу. Разнохарактерность сказок объясняется путем формирования сборника. Фильштинский пишет по этому поводу: «У непосвященных в историю этой книги может сложиться ошибочное представление, будто «Тысяча и одна ночь» - это собрание исключительно арабских сказок. На самом деле в создании этого грандиозного свода принимали участие своим фольклорным и литературным наследием многие народы, хотя окончательную форму он приобрел на арабском языке, прочно войдя в историю народной словесности».
Сказкам, входящих в состав «Тысячи и одной ночи предпослан рассказ о том, что столкнувшись с неверностью первой жены, царь Шахрияр отправился к своему брату Шахземану поделиться горем. Однако жена брата оказалась ещё более распутной, чем жена Шахрияра. А вскоре братья встретили женщину, которая носила ожерелье из 570 перстеней. Столько раз она изменила своему мужу джинну прямо в его присутствие, пока тот спал. Братья вернулись к себе домой и казнили своих жён. С тех пор, поняв, что все женщины распутны, Шахрияр каждый день берёт новую жену и казнит её на рассвете следующего дня. Однако этот страшный порядок нарушается, когда он женится на Шахерезаде — мудрой дочери своего визиря. Каждую ночь она рассказывает увлекательную историю и прерывает рассказ «на самом интересном месте, после чего ложись вместе спать» — и царь не в силах отказаться услышать окончание истории. Каждое утро он думает: «Казнить её я смогу и завтра, а этой ночью услышу окончание истории». Так продолжается тысячу и одну ночь. По прошествии их Шахерезада пришла к мужу с тремя сыновьями, рожденными за это время, «один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь». Во имя них Шахерезада попросила мужа не казнить её. На что Шахрияр ответил, что помиловал её ещё раньше, до появления детей, потому что она чиста, целомудренна и богобоязненна.
3.1. История формирования сборника
Ученые выделяют три этапа в формировании сборника: индо-иранские, арабские (багдадские) и египетские (каирские) и соответственные этим этапам сказки. Источники формирования свода многообразны, а история формирования длительна.
В результате арабских завоеваний VII – VIII вв. образовалась огромная арабо-мусульманская империя – Халифат, которую составили разные народы, принявшие арабский язык в качестве языка культуры и имевшие между собой тесные контакты. Предполагают, что в X – XII веках оформилась ранняя багдадская редакция «Тысячи и одной ночи». В нее вошли индо-иранские сказки из сборника «Тысяча преданий», переведенные с персидского, а также различные повествования из арабского фольклора. В переводе персидское название заменили на «Тысячу ночей». В собрание были помещены также и рассказы из других не арабских источников, среди них – библейские притчи.
К XII-XIII векам относится каирская редакция, которая впитала в себя сюжеты египетского происхождения и получила наименование «Тысяча и одна ночь». Число «тысяча и один» сначала воспринималось как неопределенное множество, но со временем его стали понимать буквально, и составители стремились дополнить свод различными произведениями, с целью «добрать» сказки до тысячи и одной.
Существуют различные гипотезы о источниках и этапах формирования свода сказок «Тысяча и одна ночь». В данной работе приведены две из них. Они интересны для данной работы тем, что представляют разные точки зрения на формирования сборника.
Гипотеза Хаммер-Пургшталя
При исследовании вопроса о происхождении и составе сборника европейские учёные расходились в двух направлениях. Й. фон Хаммер-Пургшталь придерживался теории индийского и персидского происхождение, ссылаясь на слова Мас’удия и библиографа Надима (до 987 г.), что староперсидский сборник «Хезâр-эфсâне» («Тысяча сказок»), происхождения ахеменидского, либо арзакидского и сасанидского, был переведен лучшими арабскими литераторами при Аббасидах на арабский язык и известен под именем «1001 ночи». По теории Хаммера, перевод персидского «Хезâр-эфсâне», постоянно переписываемый, разрастался и принимал, ещё при Аббасидах, в свою удобную рамку новые наслоения и новые прибавки, большей частью из других аналогичных индийско-персидских сборников (среди которых, например, «Синдбâдова книга») или даже из произведений греческих; когда центр арабского литературного процветания перенесся в XII—XIII вв. из Азии в Египет, 1001 ночь усиленно переписывалась там и новые переписчики вносили новые наслоения: группу рассказов о славных минувших временах халифата с центральной фигурой халифа Гаруна ар-Рашида (786—809), а несколько позже — свои местные рассказы из периода египетской династии вторых мамелюков (так называемых черкесских или борджитских). Когда завоевание Египта османами подорвало арабскую интеллектуальную жизнь и литературу, то «1001 ночь», по мнению Хаммера, перестала разрастаться.
Гипотеза де Саси
Радикально противоположное воззрение высказано было Сильвестром де Саси. Он доказывал, что весь дух и мировоззрение «1001 ночи» — насквозь мусульманские, нравы — арабские и притом довольно поздние, уже не аббасидского периода, обычная сцена действия — арабские места (Багдад, Мосул, Дамаск, Каир), язык — не классический арабский, а скорее простонародный, с проявлением сирийских диалектических особенностей, то есть близкий к эпохе литературного упадка. Отсюда у де Саси следовал вывод, что «1001 ночь» есть вполне арабское произведение, составленное не постепенно, а сразу, одним автором, в Сирии, около половины XV в.; смерть, вероятно, прервала работу сирийца-составителя, и потому «1001 ночь» была закончена его продолжателями, которые и добавляли к сборнику разные концовки из другого сказочного материала, ходившего среди арабов, — например, из Путешествий Синдбада, Синдбâдовой книги о женском коварстве и т. п. Из персидского «Хезâр-эфсâне», по убеждению де Саси, сирийский составитель арабской «1001 ночи» ничего не взял, кроме заглавия и рамки, то есть манеры вкладывать сказки в уста Шахразады.
3.2. Основные группы сказок, включенных в «1001 ночь»
Сказки Шахразады могут быть разбиты на три основные группы, которые условно можно назвать сказками героическими, авантюрными и плутовскими. К группе героических сказок относятся фантастические повести, составляющие древнейшее ядро «1001 ночи» и восходящие некоторыми своими чертами к ее персидскому прототипу «Хезар-Эфсане», а также длинные рыцарские романы эпического характера. Стиль этих повестей — торжественный и мрачный; главными действующими лицами в них обычно являются цари и их вельможи. В литературном отношении героические повести обработаны более тщательно, чем другие; обороты народной речи из них изгнаны, стихотворные вставки — по большей части цитаты из классических арабских поэтов обильны. К «придворным» сказкам относятся, например: «Камар-аз-Заман и Будур», «Ведр-Басим и Джанхар», «Повесть о царе Омаре ибн-ан-Нумане», «Аджиб и Тариб» и некоторые другие. Совсем другие настроения в «авантюрных» новеллах, возникших в торговой и ремесленной среде. Цари и султаны выступают в них не как персонажи высшего порядка, а как самые обыкновенные люди; излюбленным типом правителя является знаменитый Харун-ар-Рашид, правивший с 786 по 809, т. е. значительно раньше, чем приняли свою окончательную форму сказки Шахразады. Упоминания о халифе Харуне и его столице Багдаде не могут поэтому служить основой для датировки «Ночей». Подлинный Харун-ар-Рашид был очень мало похож на доброго, великодушного государя из «1001 ночи», а сказки, в которых он участвует, судя по их языку, стилю и встречающимся в них бытовым подробностям, могли сложиться только в Египте. По содержанию большинство «авантюрных» сказок — типичные городские фабльо. Это чаще всего любовные истории, героями которых являются богатые купцы, почти всегда обреченные быть пассивными исполнителями хитроумных планов своих возлюбленных. Последним в сказках этого типа обычно принадлежит первенствующая роль — черта, резко отличающая «авантюрные» повести от «героических». Типичными для этой группы сказок являются: «Повесть об Абу-ль-Хасане из Омана», «Абу-ль-Хасан Хорасанец», «Нима и Нуби», «Любящий и любимый», «Аладдин и волшебная лампа».
«Плутовские» сказки натуралистично показывают жизнь городской бедноты и деклассированных элементов. Героями их обычно являются ловкие мошенники и плуты — как мужчины, так и женщины, например, бессмертные в арабской сказочной литературе Али-Зейбак и Далила-Хитрица. В этих сказках нет и следа почтения к высшим сословиям; наоборот, «плутовские» сказки полны насмешливых выпадов против представителей власти и духовных лиц. Язык «плутовских» повестей близок к разговорному; стихотворных отрывков, малопонятных неискушенным в литературе читателям, в них почти нет. Герои плутовских сказок отличаются мужеством и предприимчивостью и представляют разительный контраст с изнеженными гаремной жизнью героями «авантюрных» сказок. Кроме рассказов об Али-Зейбаке и Далиле, к плутовским сказкам относятся я повесть о Матуфе-башмачнике, сказка о халифе-рыбаке и рыбаке Халифе, стоящая на грани между рассказами «авантюрного» и «плутовского» типа, и некоторые другие повести.
Литература1. В.П. Аникин. Сказки народов мира; Тысяча и одна ночь. М.: Дет. Лит. 1985г.
2. Е.Э.Бертельс. Статья «Образец Таджикской художественной прозы XII века». Синдбад-Наме, стр. 296.
3. Под ред. А.К. Боровкова. Сказки народов Востока. М.-Л., Академия Наук СССР. 1938 г.
4. Составитель, предисловие И.Брагинского.Иранская сказочная энциклопедия. М.: «Художественная литература». 1977г.
5. И.С. Быстров. Сказки народов Востока. М.: Изд. Вост. Лит. 1962 г.
6. В.В. Лебедев. Арабские народные сказки. М.: Наука. 1990 г.
7. И.Г. Лившиц. Сказки и повести Древнего Египта. Л.: Наука. Ленинградское отд-ние. 1979.
8. Под ред. П.П. Петров. Арабские народные пословицы и поговорки. М.: Изд. Иностр. Лит. 1961 г.
9. Вступительная статья А.А. Старикова. Синдбад-Наме. Мухаммад Аз-Захири Ас-Самарканди. Перевод М.-Н. Османова. М.: Вост. Лит. 1960г.
10. И.М. Фильштинский Арабская средневековая культура и литература. М.: Наука. 1978 г.
11. В.А. Яременко. Сказки и предания Ирака. М.: Наука 1990г.
12. Книга тысячи и одной ночи. М. Гослитиздат. 1958 г.
@темы: сказки